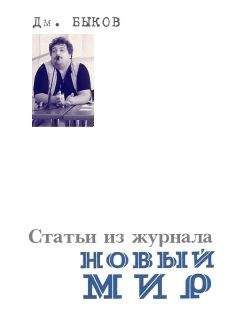Правда, иной раз меня — да и автора, насколько я понимаю, — берет сомнение: почему его Осташа из всех затруднений выбирается как заговоренный? Почему даже при обвале штольни, поглотившей скит, Ефимыча и Гермона, он умудряется выбраться живым — хотя читатель вовсе уж этого не чаял? Почему по ошибке стреляют в спину Федьке, который надел Осташин армяк? То есть в каждом отдельном случае причина ясна — а вот сюжет в целом заставляет усомниться: может, конечно, Осташе помогает его покойный батя, чью честь он должен отстоять, — а может, он и сам того… без души?
Грех сказать, иногда так кажется. И это тоже вечная примета романтической литературы, черта всех книг о лишних людях: окружение романтического героя прописано тщательно, с бытовыми деталями, с вкусными подробностями, — а вот сам герой стерт, смазан, определяется апофатически. Он не то-то и не сё-то, ни с этими и ни с теми, но кто он есть и чего хочет — не ясно. Так и Осташа, цель которого, конечно, не только в том, чтобы найти клад или обелить отца. Осташе тесно в мире, который Иванов рисует с такими избыточными, душными подробностями. Его не устраивает ни один исход боя — он не хочет быть ни победителем, ни побежденным. И потому никакого счастья этому герою не маячит — для него возможен выход только вверх. Либо к основанию новой веры, либо к восстанию, которое ведь тоже всегда было в России актом религиозным. Страшная теснота вещного мира в «Золоте бунта», душное нагромождение подробностей, слов, героев — все работает на один эффект: хочется куда-то вырваться, прорваться. Но выхода этого Осташе не дано — разве что в финале, тоже по русскому обыкновению, намечена дверь в никуда, как и для Раскольникова, и для Нехлюдова, и всех других неуемных правдоискателей.
Роман Иванова — как и роман Петрушевской — о жизни без души, о вере, которая давно никого не объединяет, о сектантской природе русской мысли и раскольничестве всякой русской судьбы. О народе, обретающем душу в деле и теряющем ее без дела. Заведись в этом циклическом мире человек, движущийся по прямой, — и спасти его может только чудо. Либо, как можно надеяться, Господь (вроде бы стоит Осташе взмолиться, как тут же является чудесная помощь). Но Осташа в романе Иванова непоправимо одинок. Для остальных, похоже, надежды нет. Их вполне устраивает существование без души и пути.
Что до собственно литературного качества, то оно здесь вопрос десятый. Роман, содержащий столь важные и часто иррациональные прозрения, не обязан быть художественно цельным: это вещь бродящая и переломная. Все, что в «Золоте бунта» пришло из традиционного романа, — «сильная» фабула с поисками клада, эротические эпизоды, хитросплетения, повороты, обманки, — все так же затрудняет чтение, как петляние таежной реки замедляет продвижение по ней. Роман выпрастывается из этой примитивной оболочки, из грубой шкуры чтива. Все, что от поэмы, — чудеса, фольклорные заимствования, сказовые интонации, отвага в постановке последних вопросов, а главное, искусно сотканная иррациональная реальность, в которой ни одно слово ничего не значит, как в пятидесятнической глоссолалии, — великолепно и ново. Когда Иванов окончательно победит Традиционный Русский Роман, он вытолкнет русскую прозу на глубокую воду новой метафизики и новой смелости, как бурлак сталкивает барку с постылого берега в новый путь, полный не только непредсказуемых опасностей, но и других возможностей.
№ 1, январь 2006 года